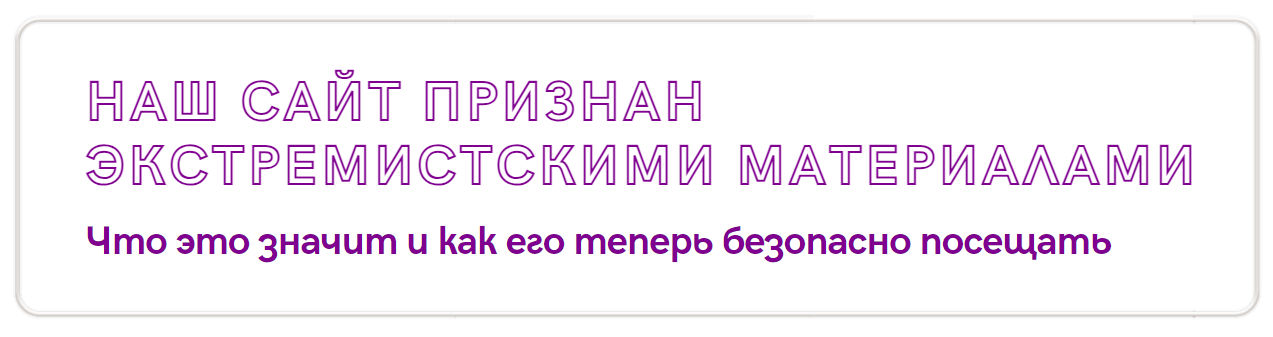Конституционное судопроизводство
Способность видеть за деревьями лес: особое мнение судьи ЕСПЧ
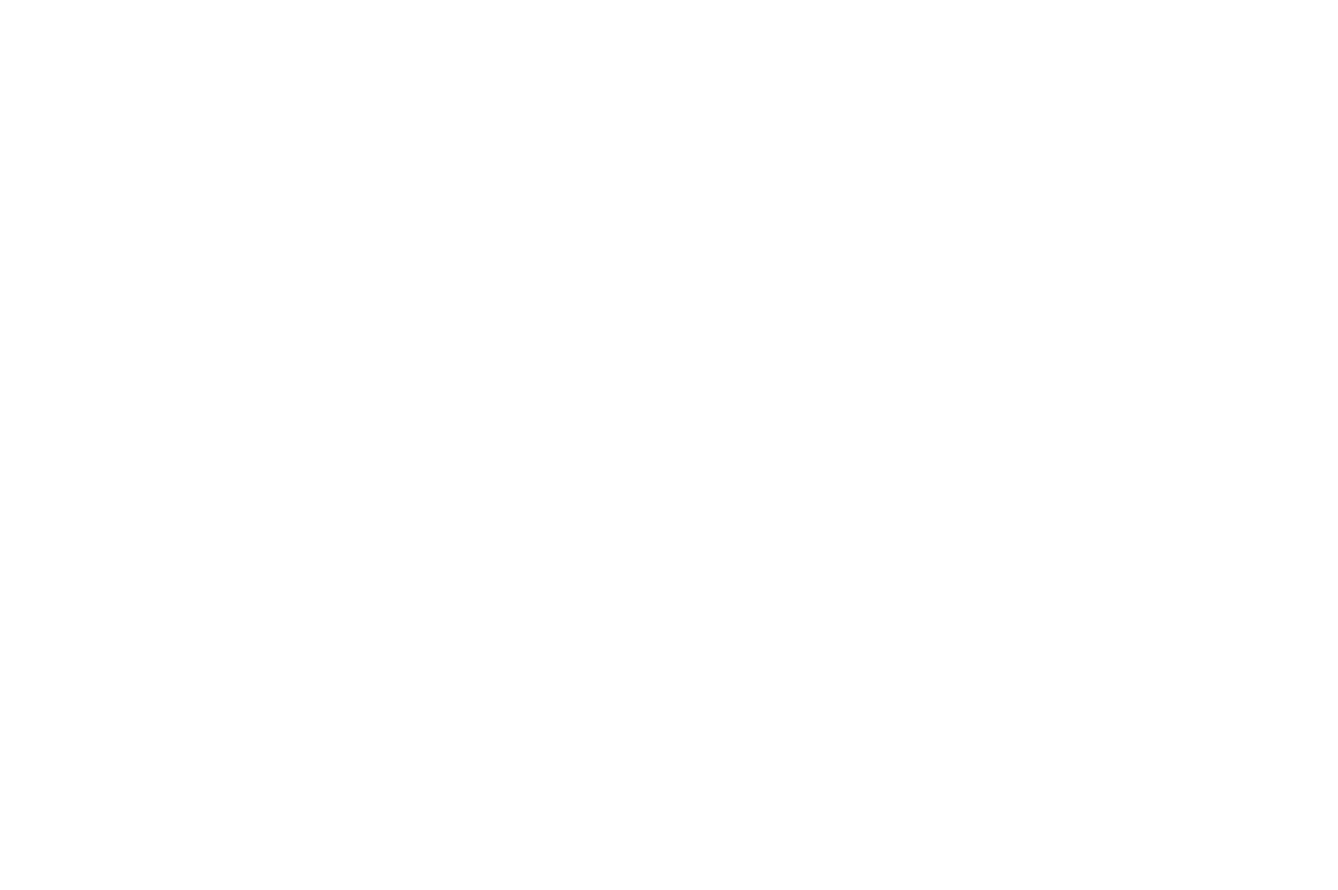
- нарушение статьи 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (свобода выражения мнения) (судьи отметили системные, масштабные, скоординированные усилия российских властей по ограничению независимого освещения войны в Украине и подавлению инакомыслия, которые не могли быть оправданы как меры по защите национальной безопасности: на практике национальные суды просто наказывали любые высказывания, противоречащие официальной версии событий, в отсутствие каких-либо попыток сбалансировать конкурирующие интересы и учесть критическую важность дискуссии о войне для российского общества),
- нарушение статьи 3 (запрет пыток, унижающего и бесчеловечного обращения) (отдельные заявители подвергались запрещенному обращению в виде содержания под стражей в металлической клетке или узкой стеклянной кабине во время судебных слушаний), статьи 5 §§ 1, 3 и 4 (право на свободу и личную неприкосновенность) (ввиду отсутствия достаточных обоснований для применения предварительного заключения, которое в сути своей является исключительной мерой, а также необоснованного промедления при пересмотре решений о содержании под стражей и иных проблем) и статьи 34 (право на индивидуальную жалобу) (Россия просто проигнорировала вынесенные Судом временные меры).
Нас заинтересовало особое мнение албанского судьи Дариана Павли: отмечая полное согласие с (между прочим, единогласным) решением ЕСПЧ в данном деле, судья использует очередное постановление против России в качестве повода для рефлексии о роли Суда в защите демократии и верховенства права в странах-участницах Конвенции.
«Уделял ли Суд должное внимание траектории, по которой все это время двигалась Российская Федерация? И мог ли Суд сделать что-то (еще)?»
Такими вопросами задается судья, у которого была возможность участвовать в рассмотрении множества других дел против России. Размышляя о последнем постановлении и возможности осуждения за плакат с изображением голубя и надписью «Я за мир» по статье о дискредитации армии, судья Павли вспоминает более давний случай, близкий к оруэлловской реальности: в 2012-м году Валерию Лютаревичу пришлось выплатить штраф за наклейку на заднем стекле машины «Единая Россия — партия жуликов и воров», поскольку национальный суд признал это высказывание актом незаконной предвыборной агитации (в это время Владимир Путин выдвигался на пост президента России от Единой России).
Вопросы «А уделяли ли мы должное внимание происходящему? А должны ли были?» можно задать многим, но Дариан Павли адресует их ЕСПЧ.
Отмечая важность демократии для ЕСПЧ, судья ссылается на преамбулу Конвенции, в которой упоминается, во-первых, общее наследие «политических традиций, ценностей, свободы и верховенства права», по-видимому, разделяемое странами-участницами, а во-вторых — глубокая приверженность «основным свободам… соблюдение которых наилучшим образом обеспечивается… подлинно демократическим режимом». «Необходимость в демократическом обществе» как таковая фигурирует в качестве теста для правомерности ограничения прав человека в ряде положений Конвенции, ценность и важность демократического режима последовательно подчеркивается в судебной практике (среди прочего, Суд даже придерживается мнения, что демократия «является единственной политической моделью, совместимой с требованиями Конвенции» (что конкретно при этом представляет собой демократия, вычленить из практики Суда довольно затруднительно — но восстановить отдельные ее черты можно). Исходя как минимум из этой важности демократии и «необходимости в демократическом обществе» можно прийти к выводу о том, что Суд не может просто игнорировать динамику в «демократичности» государств, которые предстают перед ним в качестве ответчиков.
Здесь Дариан Павли задается вопросом о том, должны ли мы оценивать «необходимость в демократическом обществе», исходя из некоего абстрактного идеала. Можем ли мы констатировать соответствие отдельного вмешательства «необходимости в демократическом обществе», если режим в этом государстве уже затруднительно назвать демократическим?
«Имеет ли смысл фокусироваться на здоровье отдельных деревьев, если в лесу бушует пожар? Не поддерживает ли Суд иллюзию, что с лесом в целом все в порядке?»
Ответ на вопрос о том, должен ли Суд фокусироваться на «здоровье» правовых систем стран-участниц может стать более очевидным, если мы обратимся к историческому контексту разработки Конвенции. В частности, travauxpréparatoires (подготовительные материалы) к тексту Конвенции сообщают нам больше о намерении ее авторов создать институт, который помог бы «предотвратить возрождение тоталитаризма», «защитить наши народы от диктатуры» и «укрепить сопротивление в наших странах против завуалированных попыток подорвать наши устои». Примечательна отмечаемая в этих материалах роль статьи 18 Конвенции, которая, похоже, лишь начинает использоваться по назначению: разработчики Конвенции понимали, что государства могут недобросовестно пользоваться механизмом ограничения прав, и ввели эту статью с целью «срезать недемократические ростки в правовых системах государств-участников на корню — до того, как они прорастут и дадут плоды..»
«Разработчики Конвенции исходили из того, что очерчивание четких легитимных целей, во имя которых права могут быть ограничены, необходимо для предотвращения ситуации, при которой государство в действительности стремилось бы к подавлению гарантированных свобод, принимая для этого незначительные меры, которые, под предлогом организации осуществления этих свобод на его территории или защиты буквы закона, на самом деле приводят к противоположному результату».
Юристы, знакомые с легализмом наших правовых систем, наверняка могут привести десятки примеров подобных ограничений в действии. Очевидно, что система Конвенции сама по себе не защитила страны-участницы от появления и развития «дурных ростков». Но уделялось ли им должное внимание?
По мнению судьи Павли — нет. Он последовательно перечисляет системные проблемы российской правовой системы на примере множественных системных нарушений свободы собраний, свободы выражения мнений, свободы вероисповедания и прочих, утверждая, что отдельные нарушения в конкретных обстоятельствах (которые, безусловно, и должны быть ключевым фокусом Суда в рамках его компетенции) в большинстве случаев оставались точечными проблемами. Нарушение пресловутой 18-й статьи Конвенции (то есть, констатация того, что власти ограничивали права граждан со «скрытыми мотивами», на деле направленными на подавление инакомыслия) было признано лишь в двух делах против России до исключения последней из Совета Европы, по словам Дариана Павли — «слишком мало, слишком поздно». И лишь в одном недавнем постановлении Суд решился на громкую формулировку, установив, что законодательство об иностранных агентах «имеет тоталитарные черты». Еще один повод для критики — то, что в значительном количестве дел против России ЕСПЧ ограничивался финансовой компенсацией жертвам — «ценой, которую власти, похоже, готовы были платить за продолжение репрессий».
«В конечном итоге эта громоздкая правовая система, основанная на принципе «власть через закон», превратилась в инструмент постепенного удушения и уничтожения гражданского общества. Тысячи нормативных актов и запретов год за годом сужали пространство для политической активности и вмешивались в личную жизнь граждан. Оценить весь масштаб этого процесса исключительно через призму индивидуальных дел крайне сложно — для этого необходима более широкая перспектива — и можно заключить, что Суд в своей практике не всегда уделял этому должное внимание. Даже в делах по статье 18 Суд склонен сосредотачиваться на частностях конкретного случая, а не на общей картине происходящего.»
Есть ли у Дариана Павли конкретные предложения по улучшению ситуации?
Да, он отмечает некоторые меры, которые могли бы, вероятно, сделать ситуацию чуть лучше — или располагать большими основаниями для утверждений «мы сделали все, что было вы нашей власти компетенции»: чаще использовать статью 18 по назначению, требовать от государства больше субстантивных мер по статье 46, расширить практику применения временных мер, а также — самое, на наш взгляд, важное — разработать инструменты мониторинга систем, в которых демократические стандарты находятся под угрозой.
Система Конвенции, безусловно, имеет свои преимущества и недостатки — часть из них Дариан Павли подсвечивает в своем особом мнении. Наша цель — не столько задуматься о том, насколько эффективно функционирует ЕСПЧ, сколько подсветить неспособность (или нежелание?) видеть правовую систему в динамике, замечать за отдельными деревьями (каждое из которых, необходимо отметить, может выглядеть относительно здоровым: автократы быстро овладевают новым словарем прав, свобод и правомерных ограничений и используют его для прикрытия своих практик) общее состояние леса — и реагировать, пока еще не поздно.
Так можем ли мы, оборачиваясь на изменения последних лет, четко сказать, где необходимо было бить тревогу?