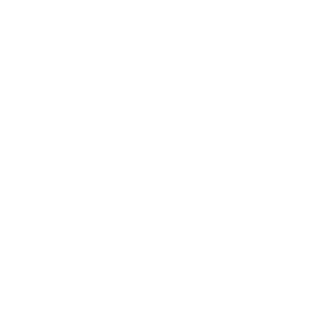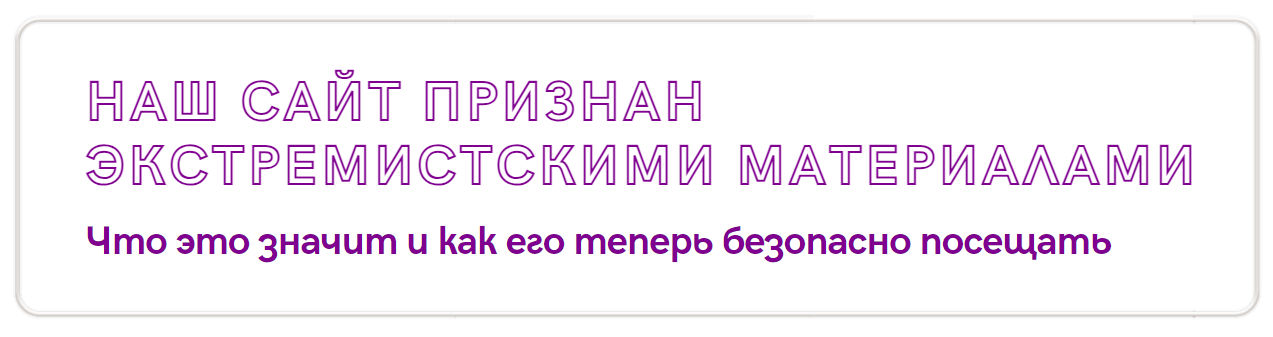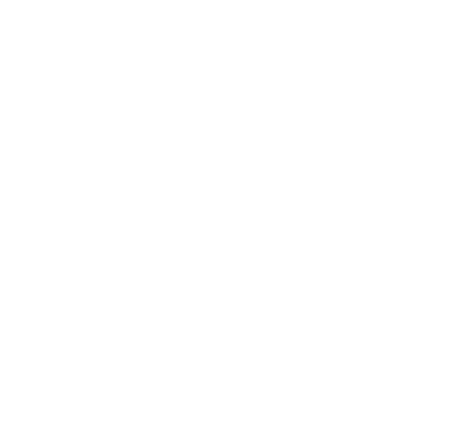Защита прав граждан
Новости
РУС
ENG
Адвокатура будущего
Конституционное судопроизводство
На два шага ближе к верховенству права: разбираем первое решение Конституционного суда Республики Беларусь
Опубликовано 4 апреля 2025 года
Наша редакция должна признаться: мы искренне удивлены. На фоне продолжающегося в Беларуси правового дефолта, активного принятия репрессивных законов, безразличия судебной системы к доказательствам и аргументам в политических делах, в ситуации, когда милиционеры трактуют право, а суды эти трактовки безоговорочно принимают в качестве руководства к действию, сложно ожидать чего-то хорошего и позитивного в правовом поле. А это позитивное случилось, и связано оно с деятельностью Конституционного суда, который вынес уже два решения в порядке рассмотрения индивидуальных жалоб на неконституционность законов, и оба решения – положительные. В этой статье мы рассмотрим первое решение подробнее, а также разберем, какое значение это решение имеет для движения правовой системы к верховенству права. Второе решение мы разберем в следующей статье
Защита прав граждан
Образец жалобы в конституционный суд по ст. 361-4 УК
В этом материале мы совместно с коллегами из Human Constanta разберем аргументы, почему ст. 361-4 УК («содействие экстремистской деятельности») и статьи Закона "О противодействии экстремизму", к которым отсылает УК, являются неконституционными.
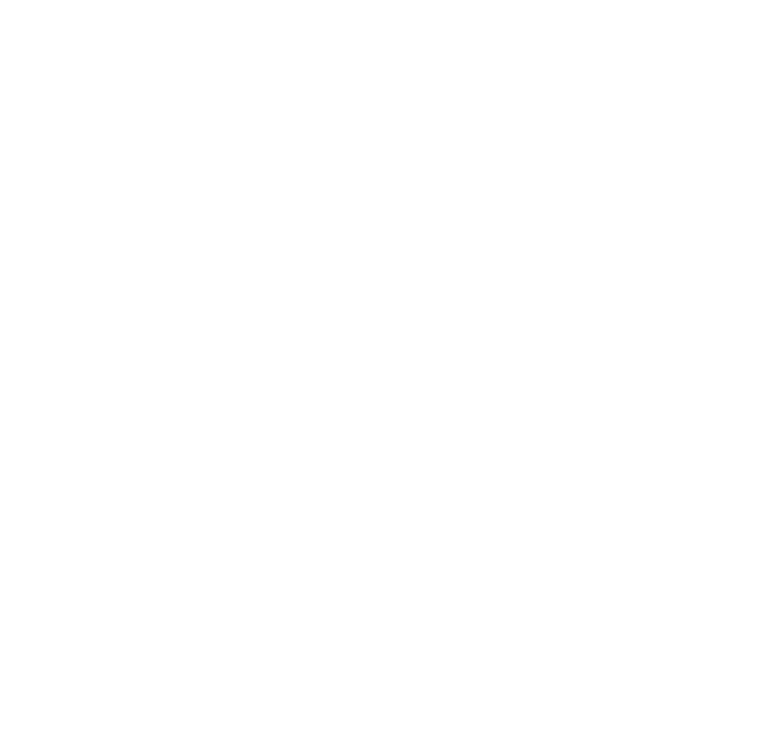
О чем идет речь
С октября 2023 года у жителей Беларуси (с известными ограничениями, например, в силу поведения и адвокатов, и судов, и прокуратуры в заочных процессах, реализовать право на обращение в Конституционный суд для лиц, несправедливо привлеченных к ответственности в таких процессах не представляется возможным) появилась возможность обращаться с индивидуальными жалобами на нарушение конституционных прав путем применения законов в конкретных делах. Переводя с юридического языка на русский – права на абстрактное обжалование закона и его несоответствия Конституции не появилось, но зато стало можно из конкретного судебного дела, пройдя все инстанции по обжалованию, включая 2 надзора, обращаться в Конституционный суд с жалобой, если в конкретном деле применением закона нарушены конституционные права.В своем послании о состоянии конституционной законности за 2024 год (опубликовано в марте 2025 года) сообщалось, что в течение 2024 года в Конституционный Суд поступило 530 обращений, из которых 103 в определенной мере отвечают критериям конституционной жалобы (цитата приведена в оригинале). Поступающие жалобы граждан изучаются в установленном Законом «О конституционном судопроизводстве» порядке и определяется способ их дальнейшего разрешения с учетом соблюдения условий допустимости, общих требований к содержанию конституционной жалобы.
Суд несколько уклонился от предоставлении информации о количестве реально возбужденных производств или отказов, хотя эта процедура и имеет жесткие временнЫе рамки. Возможно, это связано с тем, что для нового инструмента суд решил понизить планку входа и в каком-то непроцессуальном порядке помогает доработать жалобы до приемлемого уровня. Но это наши спекуляции, без какого-либо фактического подтверждения.
Коротко о том, почему мы удивлены
В целом, когда наш проект оценивал появление новой возможности по защите прав, то мы были настроены довольно-таки скептично. Мы даже писали о так называемой проблеме легализма и нормативизма в беларусской правоприменительной практике, когда и система, и правоприменители с обоих сторон баррикад в основном воспитаны в духе поклонения закону, то есть, все, что написано в законе – легально и законно. Также мы выражали сомнения в том, сможет ли Конституционный суд отказаться от стандартной модели мышления «большими мазками» - когда легитимность любых ограничений прав, вводимых законом, зиждется исключительно на целях принятия закона, а не на целях конкретного ограничения. К слову сказать, первые решения Конституционного суда так и не касались вопросов ограничения прав, отсутствия легитимных целей ограничения прав и так далее, тем не менее, они нас удивили.
Если кратко (подробнее мы разберем ниже), то можно отметить, что:
Если кратко (подробнее мы разберем ниже), то можно отметить, что:
- эти решения действительно вынесены в соответствии с принципами верховенства права, и защищают верховенство права в его разумной интерпретации (а не в его толковании в соответствии с политической целесообразностью). Не со всей логикой рассуждений мы согласны, более того, считаем аргументацию слишком осторожной, но при этом конечный результат и ключевая аргументация вполне соответствует тому, как это должно быть в нашем представлении;
- для первых решений суд выбрал (мы скорее склонны оперировать словом «выбрал» в силу непрозрачности информации о поступлении жалоб, отклонении их или возбуждении конституционного производства) не самые «травоядные» вопросы. Да, это совсем не «антиэкстремистское» законодательство и не (анти)регулирование массовых мероприятий, но и не совсем бесполезные и все же имеющие далеко идущие последствия выводы (одна защита от обратной силы закона чего стоит, возможно, впервые в истории Беларуси кто-то сказал государственному органу, что так нельзя, даже если очень хочется);
- суд в этих производствах не стал заниматься рассмотрением мест расположения запятых, поиска возможностей фигурно почитать закон/Конституцию, чтобы как-то поправить несправедливость без влезания на поля других госорганов, а как раз очень четко и недвусмысленно поработал с содержательными концептами верховенства права, что крайне необычно для беларусской квадратно-гнездовой правовой системы, в которую она превратилась за 30 лет искажения ее смысла;
- наверное, об этом стоит сказать отдельно – суд действительно добросовестно выполнил свою функцию, как он должен выполнять ее в правовом государстве. Опять-таки, мы отдаем себе отчет, что это ничего не говорит о том, что важные вопросы будут «отстреливаться» на подходе, что в какой-то момент кто-то нажалуется на этих умников в администрацию, и оттуда последует грозная отповедь, но вот сейчас это решения, которые делают верховенство права в Беларуси на два шага ближе.
Вебинар с разбором первых двух решений Конституционного суда
Наши коллеги из юридического клуба Rule of Law for Belarus проводят 25 апреля 2025 года в 16:30 по Минску (15:30 СЕТ) вебинар, на котором будут разобраны два первых решения Конституционного суда, их ключевые выводы и возможные последствия для сходных правоотношений. Больше информации - по ссылке.
| Зарегистрироваться на мероприятие |
КоАП, ПИКоАП, субъективные права, компетенция и обязанности государственного органа
Фабула дела
Первое решение было вынесено 30 января 2025 года и касалось довольно-таки известной проблемы наложения взыскания по нескольким протоколам в отношении одного человека. А именно предметом рассмотрения суда стало несоответствия ст. 12.4 ПИКоАП (согласно п. 1 части первой указанной статьи в одном административном процессе могут быть соединены дела о нескольких административных правонарушениях, совершенных одним лицом, если они подведомственны одному и тому же суду, органу, ведущему административный процесс) и ст. 7.4 КоАП (согласно части первой указанной статьи, при совершении двух или более административных правонарушений, образующих совокупность, дела о которых одновременно рассматриваются одним и тем же судом или органом, ведущим административный процесс, основное и дополнительные административные взыскания налагаются за каждое совершенное административное правонарушение в отдельности; при этом суд, орган, ведущий административный процесс, наложив основное либо основное и дополнительные административные взыскания отдельно за каждое административное правонарушение, окончательно определяют административное взыскание за совершенные административные правонарушения путем полного или частичного сложения таким образом, чтобы оно не превышало в отношении: штрафа, исчисляемого в базовых величинах и налагаемого на физическое лицо за правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта, – двухсот базовых величин; лишения права заниматься определенной деятельностью – пяти лет).
То есть, ст. 7.4 КоАП определенным образом «облегчает» положение лица, привлекаемого к ответственности при одновременном рассмотрении нескольких правонарушений, а ст. 12.4 ПИКоАП сформулирована таким образом, что как-будто бы именно за государственным органом остается субъективный выбор – рассматривать и назначать наказание по отдельности или в рамках одного рассмотрения.
В отношении гражданина, чья жалоба рассматривалася Конституционным судом, было составлено 3 протокола об административных правонарушениях:
Гражданин посчитал, что в соответствии со ст. 7.4 КоАП протоколы подлежали одновременному рассмотрению с применением ограничений по верхней границе наказания, однако рассматривавший протоколы начальник ОГАИ посчитал, что ст. 12.4 ПИКоАП говорит только о возможности объединения (могуть быть соединены...), соответственно, объединение является правом органа, а не обязанностью.
То есть, ст. 7.4 КоАП определенным образом «облегчает» положение лица, привлекаемого к ответственности при одновременном рассмотрении нескольких правонарушений, а ст. 12.4 ПИКоАП сформулирована таким образом, что как-будто бы именно за государственным органом остается субъективный выбор – рассматривать и назначать наказание по отдельности или в рамках одного рассмотрения.
В отношении гражданина, чья жалоба рассматривалася Конституционным судом, было составлено 3 протокола об административных правонарушениях:
- за нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки (часть двеннадцатая ст. 18.13 КоАП);
- за употребление водителем алкогольных напитков после совершения ДТП до прохождения проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения (часть четвертая ст. 18.15 КоАП);
- за оставление водителем места ДТП (часть вторая ст. 18.16 КоАП)
Гражданин посчитал, что в соответствии со ст. 7.4 КоАП протоколы подлежали одновременному рассмотрению с применением ограничений по верхней границе наказания, однако рассматривавший протоколы начальник ОГАИ посчитал, что ст. 12.4 ПИКоАП говорит только о возможности объединения (могуть быть соединены...), соответственно, объединение является правом органа, а не обязанностью.
Позиция нашей редакции относительно взаимодействия с государственными органами Республики Беларусь, в частности, с Конституционным судом
В разных сообществах можно встретить довольно таки диаметральные позиции относительно признания легитимности различных государственных органов, возможности обращения в эти органы с заявлениями, жалобами, исками, ходатайствами и другими документами. Позиция нашей редакции такова: мы работаем с правом, с правовыми механизмами. И наша задача – предоставлять информацию, которая, в том числе, помогает защищать права, улучшать ситуацию с правами каждого и каждой, расширять поле свобод. И в текущей ситуации обращение в соответствующие органы, включая Конституционный суд, является одним из способов защиты прав. Это может быть неэффективным, органы могут работать плохо, некомпетентно и предвзято, однако юристы, работающие с правом, на наш взгляд, должны это делать профессионально. Других институтов в настоящий момент нет. Поэтому мы считаем важным повышать уровень компетенций, обучать принципам верховенства права, знакомить со стандартами с тем, чтобы юридическое сообщество становилось значимым актором защиты прав человека.
Какое решение вынес суд
Конституционный суд, как мы уже и говорили, ориентируясь не на целесообразность правоприменения, а вполне на концепты верховенства права, указал следующее. Так, несомненно, за совершение административных правонарушений предусматривается административная ответственность, при этом рамки применения такой ответственности установлены законом, а также принципами справедливости, пропорциональности и правовой определенности. Избыточное государственное принуждение (за пределами допустимого законом), не допускается. Говоря иными словами, нести ответственность необходимо только в рамках закона.
Статья 7.4 КоАП устанавливает ограничения по верхнему пределу наказаний в случае совокупности правонарушений. И (цитата из решения) «При этом совокупность правонарушений как факт объективной реальности не зависит от субъективного усмотрения участников административного процесса. Обязанностью правоприменителя является ее точная оценка и процессуальная фиксация, поскольку совокупность административных правонарушений непосредственно влияет на наложение административного взыскания в соответствии с правилами, установленными в части 1 статьи 7.4 КоАП». Говоря иным языком – правила определения совокупности являются твердыми и не подлежат произвольному толкованию/изменению правоприменителями по своему усмотрению.
Далее следует, на наш взгляд, самая слабая часть решения. Так, суд не стал давать оценку, является ли правило ст. 12.4 ПИКоАП о возможности соединения дел обязательным для правоприменителя (напомним, что в этом деле позиция государственного органа была в том, что слово «может» следует трактовать как может да, и может и нет), только отметил, что данная норма предполагает усмотрение правоприменителя (интересно, какие критерии при этом суд увидел для такого усмотрения; когда это усмотрение должно приводить к решению об объединении, а когда не приводить). Таким образом, суд не установил несоответствия оспариваемой нормы 12.4 ПИКоАП Конституции.
Казалось бы, о чем писать, что тут удивительного, раз не установил. Но Конституционный суд, не найдя в себе силы прямо высказаться относительно усмотрения, пределов усмотрения, субъективных прав должностных лиц государственных органов, все же нашел в себе силы продолжить эту логику, и прийти к выводу, что такое несоответствие ограничений ст. 7.4 КоАП и отсутствия обязанности должностных лиц по ст. 12.4 ПИКоАП нарушает принцип правовой определенности. Говоря другим языком, при одних и тех же действиях лица, привлекаемого к ответственности, невозможно сказать, будут ли применены ограничения общего наказания или не будут, поскольку это якобы зависит от желания/нежелания должностного лица государственного органа (субъективный фактор на стороне государственного органа). Не надо путать в этой ситуации субъективный фактор при выборе объединять дела или нет и пределы усмотрения, когда есть «вилка» наказаний. В одном случае это прямое усмотрение с определенными правилами, в другом случае это выбор правовой конструкции и превращение усмотрения в субъективное решение.
Таким образом суд, объездным путем, но пришел все же к выводу, что имеется противоречие в самом несоответствии и несогласованности правил ст. 7.4 КоАП и 12.4 ПИКоАП, но не неконституционность отдельных норм. Законодателю предложено устранить эту правовую неопределенность (суд не нашел в себе силы все же признать неконституционным норму или практику ее применения). Правоприменителям до внесения соответствующих изменений в законодательные акты при наложении административных взысканий за совершение нескольких административных правонарушений, образующих совокупность, необходимо обеспечить соблюдение принципов справедливости и разумности (цитата из первоисточника). Как видно, рекомендации очень мягкие и расплывчатые.
Статья 7.4 КоАП устанавливает ограничения по верхнему пределу наказаний в случае совокупности правонарушений. И (цитата из решения) «При этом совокупность правонарушений как факт объективной реальности не зависит от субъективного усмотрения участников административного процесса. Обязанностью правоприменителя является ее точная оценка и процессуальная фиксация, поскольку совокупность административных правонарушений непосредственно влияет на наложение административного взыскания в соответствии с правилами, установленными в части 1 статьи 7.4 КоАП». Говоря иным языком – правила определения совокупности являются твердыми и не подлежат произвольному толкованию/изменению правоприменителями по своему усмотрению.
Далее следует, на наш взгляд, самая слабая часть решения. Так, суд не стал давать оценку, является ли правило ст. 12.4 ПИКоАП о возможности соединения дел обязательным для правоприменителя (напомним, что в этом деле позиция государственного органа была в том, что слово «может» следует трактовать как может да, и может и нет), только отметил, что данная норма предполагает усмотрение правоприменителя (интересно, какие критерии при этом суд увидел для такого усмотрения; когда это усмотрение должно приводить к решению об объединении, а когда не приводить). Таким образом, суд не установил несоответствия оспариваемой нормы 12.4 ПИКоАП Конституции.
Казалось бы, о чем писать, что тут удивительного, раз не установил. Но Конституционный суд, не найдя в себе силы прямо высказаться относительно усмотрения, пределов усмотрения, субъективных прав должностных лиц государственных органов, все же нашел в себе силы продолжить эту логику, и прийти к выводу, что такое несоответствие ограничений ст. 7.4 КоАП и отсутствия обязанности должностных лиц по ст. 12.4 ПИКоАП нарушает принцип правовой определенности. Говоря другим языком, при одних и тех же действиях лица, привлекаемого к ответственности, невозможно сказать, будут ли применены ограничения общего наказания или не будут, поскольку это якобы зависит от желания/нежелания должностного лица государственного органа (субъективный фактор на стороне государственного органа). Не надо путать в этой ситуации субъективный фактор при выборе объединять дела или нет и пределы усмотрения, когда есть «вилка» наказаний. В одном случае это прямое усмотрение с определенными правилами, в другом случае это выбор правовой конструкции и превращение усмотрения в субъективное решение.
Таким образом суд, объездным путем, но пришел все же к выводу, что имеется противоречие в самом несоответствии и несогласованности правил ст. 7.4 КоАП и 12.4 ПИКоАП, но не неконституционность отдельных норм. Законодателю предложено устранить эту правовую неопределенность (суд не нашел в себе силы все же признать неконституционным норму или практику ее применения). Правоприменителям до внесения соответствующих изменений в законодательные акты при наложении административных взысканий за совершение нескольких административных правонарушений, образующих совокупность, необходимо обеспечить соблюдение принципов справедливости и разумности (цитата из первоисточника). Как видно, рекомендации очень мягкие и расплывчатые.
Почему нам это решение кажется интересным и важным
Несмотря на все недостатки, половинчатость и компромисный характер как аргументации, так и выводов суда, можно приветствовать появление первого решения, в котором поставлено под сомнение наличие субъективных прав должностных лиц государственных органов. Тем самым сделан первый шажок в направлении одного из принципов, составляющих верховенство права, а именно «человеку можно делать все, что не запрещено, государственному органу запрещено делать все, что не разрешено» (естественно, во второй его части). Необходимо понимать, что верховенство права – это не просто слова о соответствии постановлений законам, а законов Конституции. Это вполне конкретная концепция, многокомпонентная и достаточно сложная. Желающие могут познакомиться подробнее в нашем материале. Скажем, если вам сложно назвать признаки верховенства права за пределами «все должны выполнять законы» и «нормативные акты должны соответствовать нормативным актам более высокой силы», то лучше перейти по ссылке, почитать об остальных 5 признаках и о более подробном содержании уже упомянутых.
Возвращаясь к упомянутому принципу, в указанном деле суд через правовую неопределенность фактически сказал, что прочтение государственными органами норм о своей компетенции с использованием слов «может» и иных аналогичных как права по своему усмотрению делать или не делать что-то, является неправильным. Этого в решении нет, но в целом надо понимать, что у государственных органов нет субъективных прав, субъективные права есть у человека и, опосредовано, у юридических лиц. У государственных органов есть компетенция, в пределах которой государственные органы должны действовать. И слово «может» применительно к государственному органу определяет дополнительное расширение поля его компетенций, но никак не право выбирать. Но неправильно будет считать, что у государственных органов нет никакой «вилки» действий внутри поля компетенций. Естественно, у государственных органов есть возможность усмотрения, например, в тех же вопросах наказания от минимального до максимального. И это усмотрение должно соответствовать базовой цели деятельности государственного органа. Например, справедливое наказание выносится с учетом отягчающих и смягчающих обстоятельств. В рассмотренном деле усмотрение и его основания для объединения или отказа в объединении дел фактически являлись произвольным со стороны государственного органа. А одно из базовых свойств верховенства права – это возможность ограничить произвол государства. Таким образом, суд, хоть и странным путем, хоть и половинчато, но защитил в рассматриваемой ситуации право гражданина не быть жертвой произвольного применения законодательства государственным органом.
Сложно сейчас спрогнозировать, как будут рассматриваться аналогичные жалобы. Напомним, что, в частности, в 2020 году много споров вызывала позиция органов прокуратуры Беларуси о том, что фраза из ст. 171 УПК РБ «Сообщение о преступлении, распространенное в средствах массовой информации, может служить поводом к возбуждению уголовного дела» должна читаться именно как субъективное право органов прокуратуры иметь или не иметь желание возбудить дело. Применив ту же логику, что и описана в этом решении Конституционного суда, сложно прийти к выводу, отличному от изложенного, заменив в цитате про совокупность последнюю на слово преступление «При этом преступление как факт объективной реальности не зависит от субъективного усмотрения участников уголовного процесса. Обязанностью правоприменителя является ее точная оценка и процессуальная фиксация, поскольку совершение преступление влечет за собой привлечение к уголовной ответственности».
И таких формулировок достаточно много в законодательстве, и, естественно, они совершенно по разному читаются в зависимости от текущей целесообразности. Но, как нетрудно заметить, решение выглядит очень осторожным и как бы извиняется, что так пришлось написать, поэтому интересно понаблюдать, в какую сторону все будет развиваться.
Возвращаясь к упомянутому принципу, в указанном деле суд через правовую неопределенность фактически сказал, что прочтение государственными органами норм о своей компетенции с использованием слов «может» и иных аналогичных как права по своему усмотрению делать или не делать что-то, является неправильным. Этого в решении нет, но в целом надо понимать, что у государственных органов нет субъективных прав, субъективные права есть у человека и, опосредовано, у юридических лиц. У государственных органов есть компетенция, в пределах которой государственные органы должны действовать. И слово «может» применительно к государственному органу определяет дополнительное расширение поля его компетенций, но никак не право выбирать. Но неправильно будет считать, что у государственных органов нет никакой «вилки» действий внутри поля компетенций. Естественно, у государственных органов есть возможность усмотрения, например, в тех же вопросах наказания от минимального до максимального. И это усмотрение должно соответствовать базовой цели деятельности государственного органа. Например, справедливое наказание выносится с учетом отягчающих и смягчающих обстоятельств. В рассмотренном деле усмотрение и его основания для объединения или отказа в объединении дел фактически являлись произвольным со стороны государственного органа. А одно из базовых свойств верховенства права – это возможность ограничить произвол государства. Таким образом, суд, хоть и странным путем, хоть и половинчато, но защитил в рассматриваемой ситуации право гражданина не быть жертвой произвольного применения законодательства государственным органом.
Сложно сейчас спрогнозировать, как будут рассматриваться аналогичные жалобы. Напомним, что, в частности, в 2020 году много споров вызывала позиция органов прокуратуры Беларуси о том, что фраза из ст. 171 УПК РБ «Сообщение о преступлении, распространенное в средствах массовой информации, может служить поводом к возбуждению уголовного дела» должна читаться именно как субъективное право органов прокуратуры иметь или не иметь желание возбудить дело. Применив ту же логику, что и описана в этом решении Конституционного суда, сложно прийти к выводу, отличному от изложенного, заменив в цитате про совокупность последнюю на слово преступление «При этом преступление как факт объективной реальности не зависит от субъективного усмотрения участников уголовного процесса. Обязанностью правоприменителя является ее точная оценка и процессуальная фиксация, поскольку совершение преступление влечет за собой привлечение к уголовной ответственности».
И таких формулировок достаточно много в законодательстве, и, естественно, они совершенно по разному читаются в зависимости от текущей целесообразности. Но, как нетрудно заметить, решение выглядит очень осторожным и как бы извиняется, что так пришлось написать, поэтому интересно понаблюдать, в какую сторону все будет развиваться.
О чем на самом деле это дело и что хотелось бы увидеть в решении
Если посмотреть на это решение более философским взглядом, то нетрудно заметить, что это решение – плоть от плоти беларусской правовой системы, несмотря на определенную смелость. Вопрос о компетенции и усмотрении государственного органа, субъективных правах и толковании содержания закона в нормальных правовых системах это вопрос уровня толкования права районным судом. Судья в странах, где суд занимается своим делом, а именно является инструментом верховенства права, защищает права и свободы, сопоставляя в обычном процессе нормы о соединении дел и ограничении наказания при совокупности правонарушений, просто свободно, на своем уровне, приходит к выводу, для которого в Беларуси потребовалось пройти апелляцию, председателя областного суда, заместителя председателя Верховного суда, Конституционный суд.
Для этого не надо изменять закон, включать в него какую-то детализацию каждого случая. Потому что в странах с верховенством права суд работает с правом, а не с разъяснениями. В Беларуси суды работают не с правом, а с текстами и решениями, принятыми в других местах. Какие могут быть в такой ситуации у суда сомнения? На это обратил внимание в том же своем послании и Конституционный суд – на более чем 500 обращений граждан о нарушении их конституционных прав приходится 0 (ноль) обращений судов с запросами о толковании норм права для конкретного дела. И даже формулировка резолютивной части решения суда про «внести изменения в законодательство» говорит о довлеющей в беларусской системе модели «все должно быть урегулировано в законах. Хороший закон – это закон, в котором описаны все случаи. Если какой-то случай не описан, мы не будем учить суды толковать, мы будем править закон».
Еще хотелось бы, конечно, видеть в решении суда боле четкие оценки пределов усмотрения государственных органов, более четкую оценку недопустимости произвольного правоприменения со стороны должностных лиц, более прямой текст о связи правовой неопределенности с произвольным правоприменением. Ну и конечно, с учетом того, что у Конституционного суда в компетенцию включена оценка не только законов, но и практики применения, хотелось бы чтобы суд дал принципиальную оценку конституционности именно правоприменения в такой ситуации, например, запросил аналогичные дела и увидел, что правовой определенности даже близко нет, а не ограничивался достаточно беззубой констатацией конституционности нормы, но неконституционности несоответствия норм.
В то же время, как мы уже, говорили, это решение очень нас удивило и порадовало. На фоне беспросветного падения правовой системы в правовой дефолт, это решений, несомненно, будет вспоминаться как правильный шаг.
Для этого не надо изменять закон, включать в него какую-то детализацию каждого случая. Потому что в странах с верховенством права суд работает с правом, а не с разъяснениями. В Беларуси суды работают не с правом, а с текстами и решениями, принятыми в других местах. Какие могут быть в такой ситуации у суда сомнения? На это обратил внимание в том же своем послании и Конституционный суд – на более чем 500 обращений граждан о нарушении их конституционных прав приходится 0 (ноль) обращений судов с запросами о толковании норм права для конкретного дела. И даже формулировка резолютивной части решения суда про «внести изменения в законодательство» говорит о довлеющей в беларусской системе модели «все должно быть урегулировано в законах. Хороший закон – это закон, в котором описаны все случаи. Если какой-то случай не описан, мы не будем учить суды толковать, мы будем править закон».
Еще хотелось бы, конечно, видеть в решении суда боле четкие оценки пределов усмотрения государственных органов, более четкую оценку недопустимости произвольного правоприменения со стороны должностных лиц, более прямой текст о связи правовой неопределенности с произвольным правоприменением. Ну и конечно, с учетом того, что у Конституционного суда в компетенцию включена оценка не только законов, но и практики применения, хотелось бы чтобы суд дал принципиальную оценку конституционности именно правоприменения в такой ситуации, например, запросил аналогичные дела и увидел, что правовой определенности даже близко нет, а не ограничивался достаточно беззубой констатацией конституционности нормы, но неконституционности несоответствия норм.
В то же время, как мы уже, говорили, это решение очень нас удивило и порадовало. На фоне беспросветного падения правовой системы в правовой дефолт, это решений, несомненно, будет вспоминаться как правильный шаг.
Защита прав граждан
Конституционная жалоба в Беларуси. Возможно ли ее подать и есть ли в этом смысл?
Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Анаис Марэн в своем докладе от 4 мая 2022 отметила, что положительно оценивает введение в статью 116 измененной Конституции права граждан обращаться в Конституционный суд.